Рубрики:
- Бизнес
- Экономика

Догоняющее развитие
14.06.2015
Экономика оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области, несмотря на региональные аспекты, в целом находится в федеральных трендах, то есть, переживает повышение объемов гособоронзаказа.
Однако за последние 20 лет отраслевая структура ОПК существенно изменилась, а сама «оборонка» испытывает целый ряд проблем – от управленческих до экономических. Об этом рассказал Александр Соколов, заведующий сектором исследований проблем развития обрабатывающих производств Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, к.э.н.
Советское наследие
В советское время много говорили о том, что продукция в той или иной отрасли не уступает зарубежным аналогам просто потому, что эта продукция никогда с аналогами из-за границы не сталкивалась. А вот военная отрасль на мировых рынках реально конкурировала. И выигрывала у зарубежных аналогов по критерию тактико-технических характеристик. Объяснение этому простое: советское оружие после Второй мировой войны воевало практически постоянно –
мы и сами вели боевые действия, например,
в Афганистане, и поставляли оружие во Вьетнам, Корею, Африку, арабские страны и так далее.
То есть, шло постоянное тестирование выпускаемой продукции – любое отставание жизнь жестоко наказывала. К концу 1980-х мы пришли к тому, что обо-ронно-промышленный комплекс был уникальной отраслью с позиций технологий, человеческого капитала и так далее. В конце 1980-х годов прошлого века началась конверсия военно-промышленного комплекса, которая в итоге обернулась сокращением гособоронзаказа и производимой военной продукции. Отрасль фактически падала около 10 лет,
а с самого конца 1990-х начался некоторый подъем. Это было тесно связано с количеством и регулярностью государственных заказов.
Кроме того, в этот же период не прекращалась работа на экспорт. Да, он сокращался, но по иным причинам, которые связаны с отработанной советской схемой экспортных поставок.
СССР был крупнейшим экспортером вооружения и военной техники в мире, но было одно существенное обстоятельство: большинство этой техники мы поставляли бесплатно бесплатно или почти бесплатно в страны Варшавского договора и «третьего мира». Это были «политические» поставки, и деньги на них зарабатывались несущественные. А когда эта система рухнула, то вполне логично встал вопрос: государство за экспортные поставки больше ничего не возмещает, а работать бесплатно никто не хочет. Результат – еще и резкое падение экспорта. Хозяйственно-экономические связи были разорваны, и затем их пришлось восстанавливать заново. Рост «оборонки» с конца 1990-х годов как раз и был связан с ростом экспортных поставок.

Дальше мы наблюдали интересную тенденцию.
В 2000-е годы, когда уровень благосостояния страны увеличивался, гособоронзаказ фактически оставался прежним. Видимо, государству эта отрасль была неинтересна. И только в 2010-е годы в соответствии с новой программой вооружений резко вырос объем гособоронзаказа и началисьмассовые закупки. При этом, когда мы говорим о резком росте, надо понимать, что любые темпы роста зависят от базы расчетов. Так вот, если у нас к концу 2000-х годов военная техника более чем 70% была устаревшей, и почти двадцать лет не велось сколько-либо массовых закупок вооружений, то удивляться резкому росту не приходится – фактически это догоняющее развитие.
Отраслевые деформации
Итогом последних двадцати лет в оборонном комплексе Новосибирской области можно считать резкое изменение его отраслевой структуры. У нас были такие монстры как «Сибсельмаш», «Сибтекстильмаш», «Вега», БЭМЗ. «Веги» не существует вообще, «Сибсельмаш» – банкрот, «Сибтекстильмаш» формально существует, но о работе в структуре оборонного комплекса, и вообще большом промышленном производстве речи там, мягко говоря, не идет.
Так случилось потому, что отдельные отрасли в 1990-е годы оказались в разном положении. Подотрасли боеприпасов и спецхимии досталось наиболее тяжело. Новосибирская отрасль как раз и специализировалась в этой подотрасли, и это было нашей слабой стороной. Авиация тоже ощутила спад –
там резко сократился внутренний гособоронзаказ, внутренний и внешний спрос на гражданскую продукцию и так далее. Но зато сохранилась своя «вертикаль власти», заводы не закрыли, и отрасль дожила до большогогособоронзаказа.
Еще одно направление не относится к оборонной промышленности, но имеет отношение к оборонно-промышленному комплексу – это атомная промышленность. В регионе два предприятия, которые относятся к этой отрасли – НЗХК
и ПО «Север». НЗХК активно работал на экспорт, кроме того, там развиваются обширные направления выпуска гражданской продукции. Относительно ПО «Север» – информации ноль, это совершенно закрытое предприятие. Но в целом можно сказать, что данная отрасль существует довольно стабильно.
По отдельным предприятиям сложились воедино субъективные и объективные факторы.
Самый печально известный пример здесь – «Сибсельмаш». Субъективные факторы понятны –
неэффективное управление и так далее. Но на предприятии сложилось еще и уникальное сочетание объективно негативных факторов. У «Сибсельмаша» было два направления работы – военное и гражданское. И оказалось, что военное направление работы – боеприпасы и спецхимия – стали абсолютно невостребованным в стране, и до сих пор в этой подотрасли нет больших денег. Но и гражданское направление рухнуло: в 1990-е годы выяснилось, что гарантированных продаж не будет, и необходимо конкурировать за потребителя. А это довольно сложная задача.
Сейчас в России оборонный комплекс успешно работает в гражданском направлении только с одним условием – если продукция достаточно однородна. Например, нет особой разницы – делаете вы военный вертолет Ми-28, либо его гражданскую модификацию. Убираете вооружения и бронезащиту, а остальное – почти одинаковое. Аналогично – в атомной промышленности, где и в советское время было развито гражданское направление. То же самое – «гражданский космос», где также ничего не пришлось изобретать.
Там, где требовалось реальное переформатирование деятельности, ничего не получилось.
И такие производства рухнули. В результате в конце советского периода в Новосибирской области была довольно диверсифицированная оборонная промышленность, а сейчас ее направления сузились до самых востребованных.
Человеческий капитал
Итак, деньги в отрасль пошли. Но быстро стало понятно, что осваивать их будет проблематично. Ведь все предыдущие годы, скажем, почти никак не финансировалась отраслевая наука, и соответствующие НИИ либо потеряли свой научный потенциал, либо вовсе закрылись.
Заводы, которые должны были осваивать гособоронзаказ, имели устаревшее оборудование и кадры посредственного качества. Ведь специалисты предприятий не сидели два десятилетия в ожидании, когда им дадут отмашку на полноценную работу – нет, они просто уходили.
В результате на оборонных предприятиях сейчас работают либо те, кому 20 с небольшим, либо специалисты предпенсионного возраста. Людей 30-40-летнего возраста, как правило, там просто нет.
Вопросы привлечения кадров в отрасль начали решаться недавно – в начале 2010-х. Если оборудование можно было заменить – в том числе,
за счет средств или банковских гарантий
со стороны государства, то инженеров так быстро не восстановишь. Долгое время эта ситуация была сродни ношению воды в дырявом корыте. Каждый год технические вузы выпускали сотни тысяч инженеров, которые после окончания обучения шли работать куда угодно, только не на заводы. А если и шли на завод, то быстро понимали, что зарплата там маленькая, работа неинтересная, а перспектив на получении жилья нет. Понимали – и уходили.
Поэтому задача была простой – сделать так, чтобы люди оставались. Рецепт оказался вполне обычным: интересная работа, достойная зарплата и перспективы получения жилья. Иногда эти элементы могут быть взаимозаменяемы: например, высокая зарплата может перекрывать все остальные составляющие. Именно в этом ключе оборонные заводы сейчас и пытаются решать проблемы привлечения кадров. Например, НАЗ им. Чкалова, еще будучи самостоятельным юридическим лицом, запускал совместно с мэрией и рядом коммерческих банков привлекательные
жилищные программы.

Закрытая экономика
Данные о результатах деятельности ОПК, как правило, разрозненны, содержат определенные пропуски. За 2014 г. предприятия только недавно отчитались, и пока что мы оперируем данными за 2012-2013 гг. Ввиду того, что по ряду предприятий статистические данные в открытом доступе отсутствуют, рассчитать, например, структуру производства представляется проблематичным. Реально же оценить ряд показателей эффективности деятельности предприятий – расчеты делались по данным большинства новосибирских оборонных ОАО.
Показатели тех лет говорят, что экономика ОПК довольно вялая. Например, рентабельность этих предприятий составляет около 3%. Несмотря на рост объемов гособоронзаказа, рентабельность все равно не увеличивается. Дело в том, что мы живем в очень странную эпоху. Советская экономика была плановой, экономика развитых стран – рыночная. Что у нас – понять довольно сложно, это некий гибрид разных укладов.
С одной стороны, государство с начала 2010-х годов очень жестко регулирует цены на вооружение и военную технику. С другой стороны, цены на сырье и материалы, из которых все это производится, государство не контролирует. То есть, у нас на одном предприятии может сочетаться жесткий план и свободный рынок. В результате цены на сырье и материалы, как правило, растут более высоким темпом, чем цены конечной продукции «оборонки», соответственно, рентабельность снижается.
Управленческие парадоксы
Вторая проблема – структура управления отраслью. В 1990-е годы военно-промышленный комплекс пережил этап дезинтеграции, что, конечно, было неправильным. Затем мы стали все это собирать. Было два пути. Первый – естественный, когда предприятия в одной цепочке собирались в концерны или холдинги. Это долго, непросто, но правильно. Так, например, было организовано НПК «Иркут». Они смотрели, кто им нужен для кооперации, и «подбирали» заводы, КБ и лаборатории. И эта система работает.
Но в массе своей оборонный комплекс пошел иным путем – искусственным образом там создали вертикально-интегрированные структуры холдингового типа – госкорпорации. Логику устройства этих корпораций найти сложно. Хотя бы на уровне понимания, почему именно эти предприятия «упакованы» в те или иные структуры.
Например, «Ростех» (ранее – «Ростехнологии»), куда напихано значительное количество предприятий. Эта структура вроде бы создавалась для того, чтобы предприятия становились экономически успешными, и государство после этого их бы выгодно продавало. Недавно в Новосибирске государство попыталось это сделать: на аукцион были
выставлены три лота, включая «Сибсельмаш» и «Луч». Покупателей не нашлось. Никаких выгод от нахождения внутри «Ростеха» эти предприятия не извлекли – но и остальные точно так же. Потому что нет никаких системных причин, почему это должно было случиться – никакой синергии в «Ростехе» не существует. Если вы свалите в одну кучу массу разнородных предприятий, эффекта не будет.
Аналогично – «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). Конечно, это не настолько парадоксальная структура, как «Ростех», потому что предприятия туда собирали по критерию отраслевой принадлежности. Но одно обстоятельно хорошо демонстрирует уровень работы ОАК: стратегию корпорации начали разрабатывать через пару лет после того, как она была создана. Получается, что в первые годы у менеджмента вообще не было представления о том, зачем все это было собрано воедино.
Странности системы организации отрасли хорошо видны на примере обновления основных фондов Новосибирского авиазавода им. Чкалова (НАЗ). Государство это обновление финансирует, и все бы хорошо, но над НАЗ существуют еще две структуры – холдинг «Сухой», который, в свою очередь, входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации. То есть, над вами две структуры, а финансируют вас и вовсе по третьему пути – напрямую из бюджета. Очевидно, что это ненормально.

Несостоявшийся локомотив
Станет ли ОПК Новосибирской области локомотивом региональной экономики? Ответ на этот вопрос порождает массу размышлений. Схему нарисовать легко: например, цепочку, при которой увеличение спроса на оборонную продукцию порождает рост спроса на металлургию и так далее. На практике же все довольно странно.
Возьмем цветную металлургию. По данным последних лет, Россия – крупнейший экспортер алюминия, но и один из крупнейших импортеров этого металла. Мы вывозим первичный алюминий – так называемые «болванки», а ввозим уже готовые изделия. Получается, что даже в таких простых цепочках идея о стимулировании спроса на конечную продукцию не работает.
Аналогично в военно-промышленном комплексе. Всем известно, что авионика, которая стоит в самолетах, произведена за пределами России. Начинка космических аппаратов сделана во Франции и так далее. То есть, ОПК во многом завязан на зарубежные поставки. Например, не так давно в Новосибирске на заводе «НЭВЗ» открыли производство керамики. Это хорошо, но технология и сырье – зарубежные.
Не нужно, чтобы производство и поставки комплектующих для него были полностью локализованы в пределах нашей страны. Это тупиковый путь. Но быть локомотивом для развития экономики – вполне посильная задача для ОПК. Пока такого эффекта мы не наблюдаем. Кстати, и в СССР была неоднозначная ситуация. Да, военная продукция производилась из отечественных сырья и материалов, та же цветная металлургия была ориентирована на поставки сырья оборонному комплексу, но технологии за пределы ОПК не выходили, знания не распространялись, или распространялись, но с запозданием.
Это и есть очень амбициозный современный вызов для «оборонки». Первое направление – способствовать технологическому развитию экономики. Второе – сформировать такую систему, в которой нашлось бы место не только для ручного управления. Чтобы кредиты давались не только по прямому указанию президента. Третье – сформировать систему внедрения знаний, цепочку, которая была разрушена: НИИ, внедрение, производство. Это то, над чем стоит поработать.
Подписаться на рассылку
status-media.com
Отправляя форму вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

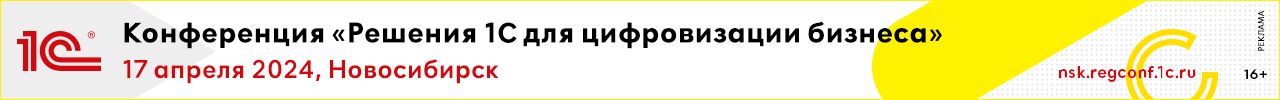






Внимание: комментарии у данной статьи отключены!