Рубрики:
- Интервью
- Люди

Михаил Кожокин: «Журналистика — постоянный поиск нового»
29.10.2021
Современные технологии коммуникаций ставят традиционные средства массовой информации пред необходимостью выбора дальнейшего пути развития. О трансформации СМИ в новейшей истории России и о будущем отечественной журналистики с российским политологом, проректором Российского государственного гуманитарного университета Михаилом Кожокиным беседует главный редактор журнала Status Александр Яхомов.
— Что вас привело в наш город?
— Не буду скрывать — инициатива Игоря Макаренко, директора фонда «Гражданское согласие». Он пригласил меня в Новосибирск для участия в мероприятиях Технопрома. Мне интересна Сибирь: это огромный регион, а Новосибирск — его центр, столица Сибири. Говорю это при всём уважении к другим городам.
Я был здесь и раньше, но достаточно давно, в конце прошлого столетия, примерно в 1996 или 1997 году. Поэтому хорошо вижу большие изменения, которые произошли в городе. Когда целый день провёл на Технопроме, понял, что в Новосибирске и многое сохранилось, в первую очередь промышленность и наука, академическое мышление.
— В это же время вы начали работать главным редактором газеты «Известия» и наблюдали как зарождение новых российских медиа, так и попытки интеграции советских изданий в новую реальность. Насколько это оказалось успешным?
— Нет однозначного ответа, у каждого бренда своя история. Например, «Московский комсомолец» жив, успешно развивается, и его до сих пор возглавляет Павел Гусев, которого в должности главного редактора утверждал ещё московский горком КПСС. Отличный пример того, как бренд нашёл свою нишу. Сегодня МК — голос столичного мегаполиса. Хочешь понять, о чём и каким языком говорит Москва, — читай МК.
Другой пример успешного бренда, вышедшего из советского времени, — «Комсомольская правда», она уже говорит обо всей России, на её языке. И её редколлегия, которая определяет политику издания, выходцы с Дальнего Востока и Сибири.
Немного иная история у «Известий». Этот бренд тоже жив и здравствует, занимая свою конкретную нишу, но уже немного другую, не ту, что раньше. Таково решение учредителей, акционеров. Они перепозиционировали издание, снизив уровень аналитики, осмысления действительности и сделав крен в сторону упрощения. Такой подход оказался востребованным.
В противоположность этому можно вспомнить «Труд» — газету профсоюзную, которая всю свою историю имела абсолютно дотируемый тираж. Поэтому она не смогла вписаться в рыночные отношения. Стала потихоньку умирать и в конце концов окончательно ушла с рынка.
Совсем другая история у «Правды»: её бренд и логотип уже давно не принадлежат российским структурам. Расколы в редакции, цепочка продаж-перепродаж бренда — в результате он, по сути, перестал существовать на федеральном уровне. Поэтому наши коммунисты сейчас и не восстанавливают эту газету.
— Что стало причинами глобальных перемен для российских СМИ?
— За два с небольшим десятилетия таких причин было несколько, фактически наши медиа пережили три глобальных трансформации. Первая из них — исчезла целая страна, и на её месте появилась другая. Вслед за этим изменился экономический строй, возникла частная собственность, утвердились рыночные отношения. И третья трансформация произошла благодаря появлению сети Интернет. Она сломала существовавшую модель СМИ не только в России, но и во всём мире.
Журналисту должны быть присущи две вещи: знание и любовь к родному языку и чувство голода к новостям.
До этой поры средства массовой информации были двусторонним каналом для общения государства и общества. Если в какой-то период государство безоговорочно брало верх и утверждалась тоталитарная диктатура, то СМИ превращались в орган пропаганды. Если государство безнадёжно ослабевало, то в информационной сфере воцарялась анархия, которую многие принимали за свободу слова. Но абсолютная свобода прессы — это самое крайнее состояние, которое бывает только в революционные периоды.
— В наши 1990-е годы был ли какой-то период абсолютной свободы?
— Надо правильно понимать термины, которыми мы оперируем. Нередко журналисты определяют свободу как возможность писать всё что угодно. Но в реальности это невозможно. Да это, собственно говоря, и не есть свобода. На мой взгляд, правильнее определять её через объективность подхода: когда каждое явление автор старается описать как минимум с двух сторон, используя несколько источников информации, к тому же проверяя и сами эти источники. Но это возможно лишь тогда, когда СМИ являются самостоятельным, независимым бизнесом. В России же такого никогда не было, потому что в экономике всегда превалировало государство. Даже на пике либеральных гайдаровских реформ именно государство было крупнейшим субъектом экономических отношений. Более того, в так называемые нулевые годы государство стало ещё и активно воздействовать на отечественные СМИ.

— Как вёл себя в этот период бизнес?
— Я абсолютный сторонник того, что экономика определяет наше бытие, в том числе развитие медиа. И ситуация на рубеже прошлого и нынешнего веков это очень наглядно доказала. Вспомните: СМИ сначала относились к бизнесу, к инвесторам как к спонсорам — дай деньги и отойди в сторону. И это тоже было видимостью свободы, в том числе и для читателя — мол, читай что хочешь и выбирай лучшее. К тому же была очень низкая цена вхождения в этот сегмент — для того чтобы создать газету, любое печатное издание, а тем более радиостанцию, достаточно было нескольких десятков тысяч долларов.
Но рынок устроен гораздо жёстче. Бизнес некоторое время смотрел на происходящее со своими инвестициями, вложениями в СМИ, да и начал считать деньги, расходы, доходы. И решил, что если какие-то медийные активы прибыли не приносят, то от них нужно избавляться, отсюда пошли цепочки перепродаж, перехода СМИ из рук в руки. Да и сами СМИ стали менять позиции, чтобы вписаться в рынок, или примыкать к государственным структурам, надеясь там найти своё финансирование.
При этом сам рынок рос как на дрожжах: если в начале 1990-х годов рекламный рынок в России составлял несколько миллионов долларов, то в 1997–1998 годах он был уже больше миллиарда. В медиа пришли огромные деньги, и все инвесторы рассчитывали на отдачу от них.
— Если раньше СМИ выполняли функции коммуникаций между государством и обществом, то какова их роль сегодня?
— Как раз сейчас эта роль меняется, и это живой, постоянно развивающийся процесс. Наступила эпоха прямых коммуникаций, когда ни государству, ни обществу уже не нужны посредники для взаимодействия. Государство уже имеет возможность напрямую общаться с каждым человеком, это блестяще демонстрируют электронные сервисы госуслуг, налоговой инспекции, МФЦ.
СМИ теряет роль посредника и в профессиональных, и в личных взаимоотношениях. Если люди друг другу интересны, они общаются напрямую. Если есть необходимость решить какой-то специфический вопрос, практически любой ответ может дать группа специалистов в той или иной социальной сети, и к ним тоже можно обратиться напрямую. Уходит даже роль СМИ как популяризатора того или иного события: соцсети «обгладывают» новости ещё быстрее. Нам уже не нужен журналист для «разжёвывания» непонятных вещей: можно обратиться непосредственно к экспертам и получить даже более качественную консультацию.
Наступила эпоха прямых коммуникаций, когда ни государству, ни обществу уже не нужны посредники в виде СМИ для взаимодействия.
Более того, у каждого из нас появилась возможность самостоятельно конструировать свою информационную среду, например в соцсетях. При этом любой пользователь последовательно проходит три стадии: сначала случайным поиском исследует новое окружение, потом формирует круг друзей. Причём те, кто действительно хочет получать объективную информацию, включают в этот круг не только единомышленников, но и людей с другими мнениями и взглядами. У меня лично такой период длился от полугода до девяти месяцев, и сегодня о любых интересующих меня событиях я узнаю через своё профессиональное сообщество много быстрее, чем через СМИ. К тому же один и тот же факт снабжается порой абсолютно полярными, но содержательными комментариями.
Так наступает третья стадия — понимание ненужности старых СМИ как источника информации и, как следствие, возрастающая ценность субъектов своего сообщества. На этом этапе зачастую становится понятно, что и твоё собственное мнение чего-то стоит. И ты сам начинаешь раскрываться, приобретаешь множество подписчиков, фактически включаясь в функционирование нового коммуникационного сообщества на основе социальной сети.
— Какая же роль в такой ситуации отводится журналисту?
— Я бы сказал так: из журналистики постепенно уходит задача создания коммуникаций между государством и обществом и внутри самого общества, но при этом возрастает значимость функционала «чистильщика». Всегда необходим тот, кто находит и обозначает неприятные, токсичные, шок-темы, для того чтобы впоследствии те же государство или общество могли избавиться от этих злокачественных образований. В этом смысле традиционная и новая журналистика, те же блогеры — это расследователи, а сама журналистика — постоянный поиск нового.
Но эту роль журналистика очень чётко играет лишь в демократически организованных обществах, где существует система сдержек и противовесов властей — законодательной, исполнительной, судебной. Конечно, даже там журналистов не все любят, потому что они указывают на изъяны, нарушения этой системы. Но, так или иначе, это и есть основа демократического развития общества. Поэтому журналистика будет и дальше существовать как профессия.
Однако такого, как было у нас раньше — миллионные тиражи, ночные очереди за свежими новостями в эпоху перестройки, уже не будет.
P. S. Уже после разговора с Михаилом Кожокиным главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов впервые в истории российской журналистики стал лауреатом Нобелевской премии мира за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира» (цитата по rbc.ru).
Текст: Александр Яхомов
Подписаться на рассылку
status-media.com
Отправляя форму вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
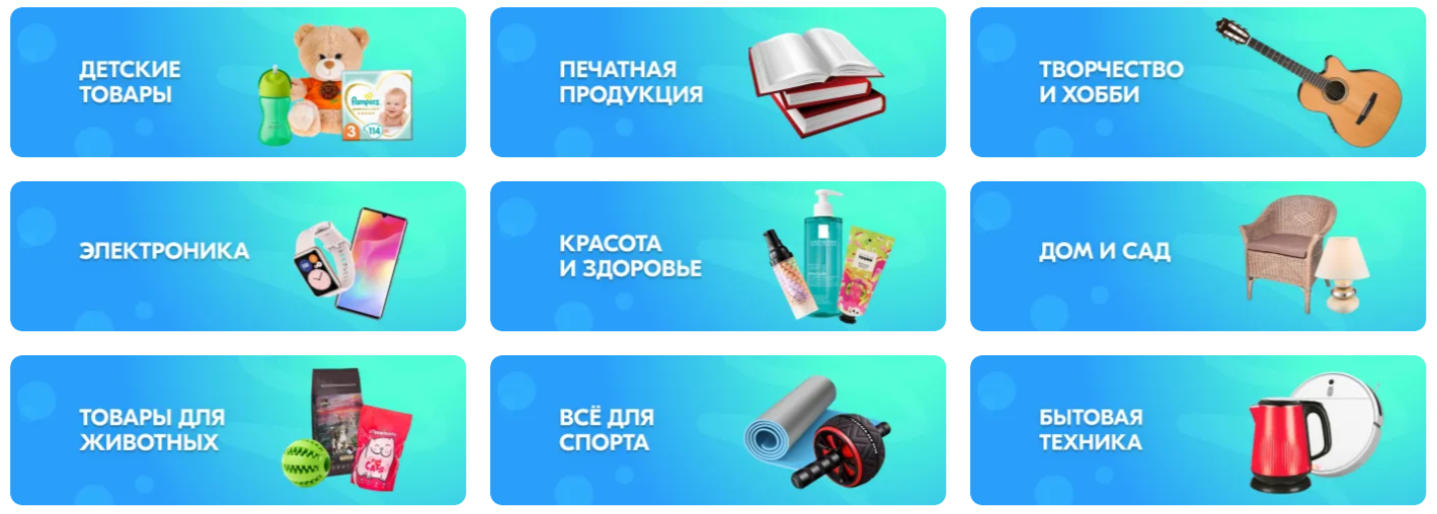





Добавить комментарий
Для того, чтобы оставить комменатрий вам необходимо зарегистрироваться!
Регистрация на www.binance.com28.11.2016
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?
gateio28.11.2016
I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.
gate io nasıl kullanılır28.11.2016
I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!
binance odkaz28.11.2016
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://accounts.binance.com/sk/register-person?ref=V2H9AFPY