Рубрики:
- Интервью
Глеб Солнцев: Искусство на другой частоте
18.10.2022
Глеба Солнцева знает весь мир. Знаете и вы, если используете мобильное приложение «Сбербанка» — на заставке его работа. Глеб был на обложке журнала Esquire, до него такой чести удостаивались культовые художники, например, Энди Уорхол. Но знаменит Глеб все же не заставкой и обложкой, а картинами. И помощником — нейросетью. Она мыслит, рисует, как Глеб, только в тысячи раз быстрее: уже сегодня создает картины, которые его прародитель смог бы написать только лет через 20.

— Глеб, расскажите в нескольких словах о себе.
— Я – художник в пятом поколении. Говорят, когда ты — узелок в ковре, то не можешь увидеть всего ковра, а я как раз помогаю людям чуть-чуть увидеть весь масштаб «бедствия» языком изобразительного искусства.
— Одна из граней вашего творчества — коллаборация с журналом Esquire (в России теперь «Правила жизни»). Как удалось найти такое применение своему искусству?
— Коллаборация — всегда выход из зоны комфорта. Дело в том, что приходится кому-то дать право вмешиваться в твою работу, а для художника это очень сложно. Быть художником — это очень часто работать со своим эго: ты сам себе — мерило, судья и зритель.
Но, с другой стороны, коллаборация — приятный момент общения через творчество, как диалог на другой частоте. Для художника попасть на обложку Esquire — это как найти золотую чашу Грааля. Журнал редко делает обложки с известными художниками: среди них были Баския, Уорхол, теперь ваш покорный слуга. И тем важнее для меня, что это был коллекционный номер, который, по данным издательства, стал самым продаваемым. Когда я спрашивал режиссера Кирилла Серебреникова, что для него театр, он сказал — это конфликт. Когда среди привычных фотообложек журналов вы вдруг видите эскизы художника — это тоже конфликт, который привлекает внимание. Через мою выставку пройдёт максимум 10 тысяч человек, а тираж Esquire — 200 тысяч экземпляров. Это значит, что моя картина будет у такого числа людей.
Или коллаборация со «Сбербанком»: для онлайн-приложения мы с «Гаражом» и галереей SAMPLE нарисовали входную картинку — эту работу увидели 20 миллионов пользователей. Масштабирование c помощью современных технологий позволяет донести мое искусство до как можно большего количества людей.
— Считаете ли вы современные города-мегаполисы интересными с точки зрения творчества как, допустим, для Репина его Абрамцево?
— Мне нравится, что сейчас идет процесс децентрализации: творческая жизнь больше не сосредоточена в Москве, Петербурге. Мощнейшим арт-кластером стал, например, Нижний Новгород. Многие сейчас едут в Липецк, только чтобы посмотреть самый большой в Европе мурал с дополненной реальностью, который написал я.
Из-за мировой ситуации мы снова оказались в рамках своих границ, и это интересно — посмотреть внутрь собственной страны. Нас учили на примере голландской и французской живописи и немного на Репине, а народное творчество, языческие орнаменты, ручные росписи, даже сказки мы практически не знаем. Но ведь это наши корни. На самом деле мы и в свою культуру «играем» не по-настоящему. Как только начинаем играть в европейскую, получается фейк. Оттого, что мы пытаемся мимикрировать под Европу, наше искусство «не выстреливает» в мировом пространстве. Наши самые успешные кейсы в культуре, как «Русские сезоны» Дягилева, получались тогда, когда переставали стесняться самих себя. Я знаю многих российских художников, которые черпают своё вдохновение в своих корнях – именно это будет интересно мировому зрителю.
— Ваш любимый материал для работы — двуслойный акрил. Почему?
— В детстве мне дарили китайские пластиковые игрушки в упаковке, которые я не распаковывал пару дней — нравилось это глянцевое ощущение. С этого все и началось. Хотя у меня академическое образование, 12 лет писал маслом на холстах. Для меня не последнее значение имеет и тема экологии. Я больше 8 лет прожил на Бали, где хорошо видно, если утром бросил на землю бумажку или пластиковый стакан, то к вечеру они окажутся в океане. К сожалению, в городах масштабов этого бедствия так не видно. Я работаю на сертифицированном, полностью экологичном recycle-пластике. Этот материал мне очень нравится — концептуально в нём всё идеально собрано.
— Расскажите о своем необычном помощнике — нейросети.
— Начав работать в digital, я открыл «ящик Пандоры»: понял, что люблю гаджеты и начал думать, как создать новые инструменты для художника. Через нетворкинг познакомился с Алексеем Газиевым, владельцем компании по «выращиванию» нейронных сетей для бизнеса. Например, нумизматам он создаёт сети, которые отслеживают аукционы и сообщают о нужных лотах. Я предложил Алексею создать арт-проект: в тот момент работал над проектом в Кракове, не укладывался по таймингу, и мне был нужен подмастерье, как у мастеров Ренессанса. «Но у меня нет возможности нанять и обучать человека, поэтому мог бы ты вырастить ещё одного меня?» — спросил я у Алексея. Архитектор нейронных сетей сказал, что подумает. Буквально через два дня позвонил и сказал, что готов приступить к работе.
А дальше началось обучение нашего совместного с Алексеем Газиевым детища под названием — нейросеть Sun.Gaz. Сначала, как маленького ребёнка — с самых азов. Далее закладывали в неё огромное количество всего, что я создал. Она анализировала информацию по цвету, пластике, процентным соотношении линий, пятен. Потом, как на курсе живописи и рисунка, в сеть закладывали композиционные знания. Это похоже на то, как если бы самого себя разобрать на частички и потом снова собрать в нейросеть.
Сеть обучалась по градиентному спуску: когда оптимальным путём пытается решить задачи, которые ты ей задаёшь, получает наказания или поощрения в зависимости от результата. В какой-то момент начала выдавать интересные изображения. Это очень странные ощущения — будто ты видишь свою работу, но не помнишь, как и когда её рисовал, хотя она пахнет тобой, вибрирует тобой, в ней твои композиционные решения, твоя моторика.
После завершения проекта в Кракове я договорился с «Гоголь-центром» об одном проекте, где весь визуальный материал для премьеры спектакля создал в коллаборации с нейросетью. Для меня было важно, чтобы к «нейронке» отнеслись как к соавтору, а не как к инструменту: чтобы в платёжке было написано «работы выполнила нейросеть».
Третий наш совместный с нейросетью проект — полноценная выставка в Токио. Сегодня моему виртуальному помощнику добавили лингвистически-нейронный интерфейс, и мы можем общаться словами. Если раньше ей надо было скидывать референсы, показывать эскизы, чтобы по ним определяла, как надо компоновать, то сейчас достаточно ввести слова, например, «Россия», «Гоша Рубчинский», «скрепы», «Чайковский», «Модильяни», в ответ получишь потоковое видео на эти темы. Сеть сама начнёт морфить, склеивать и это очень интересно.
— Нейросеть для вас сегодня — подмастерье или партнёр?
— Пока как подмастерье, она ещё учится.
— Но вы готовы к тому, что она станет полноценным партнёром или даже мастером, у которого даже можете чему-то научиться?
— Уже сейчас она даёт новые ощущения. В моей работе есть такая биполярка: с одной стороны, я — классический живописец, с другой — коммерческий иллюстратор. Эти две полярности во мне постоянно конфликтовали: «коммерсант» зарабатывал деньги на жизнь, а «классик» его презирал его и оскорблял. Благодаря айпаду я наконец-то совместил эти две личности в своей психике.
На линию уходит очень много энергии, иногда при переходе к центру ты уже выгораешь. Нейросеть взяла на себя вопросы с графикой, и я могу больше внимания теперь уделять цвету — больше экспериментировать, больше рисовать. Каким-то пластическим ходам я учусь и у неё: она ведь работает в рамках меня, но с огромной скоростью, поскольку я всё же не могу выдавать по 200 тысяч картинок в неделю, а она может. Когда смотришь на некоторые из этих работ и думаешь, что я бы тоже мог так сделать, но лет через 20. В начале работы с нейросетью ей было, судя по уровню картинок, года три, сейчас — это зрелый автор лет 30-35. Она и видеограф, и монтажёр, у неё на счету коллаборация с Липецким металлургическим комбинатом, шесть официальных выставок, в том числе в Берлине и Токио.
— И последний вопрос — как вам Новосибирск и сибиряки?
— Если честно, я летел сюда абсолютно белым листом. Новосибирск я пока видел из машины по дороге в отель, выставочный зал. Но для меня город — это всегда люди. Сибиряки влюбляют в себя — очень искренние люди, а главное в них есть какая-то незашоренность. В Москве мои работы часто не понимают, а здесь я увидел много любопытных глаз, которые готовы воспринимать что-то новое. Это очень хорошее качество, видимо, выработанное тяготами существования в Сибири. Мне сказали, что в Новосибирске с утра может быть +10, а ночью -20, и ты должен быть к этому готов. Я вижу в сибиряках эту мобильность и пластичность — это привлекает: ты понимаешь, что можешь делать здесь интересные проекты и будешь понят.
Благодарим за организацию интервью Марию Шевереву / Sheverev Gallery, а также Алексея Нагибина / Coffee Collective за предоставленное место для беседы.
Автор: Александр Яхомов
Фотограф — Виктория Мороз
Также использованы фотографии из архива Глеба Солнцева
Подписаться на рассылку
status-media.com
Отправляя форму вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности



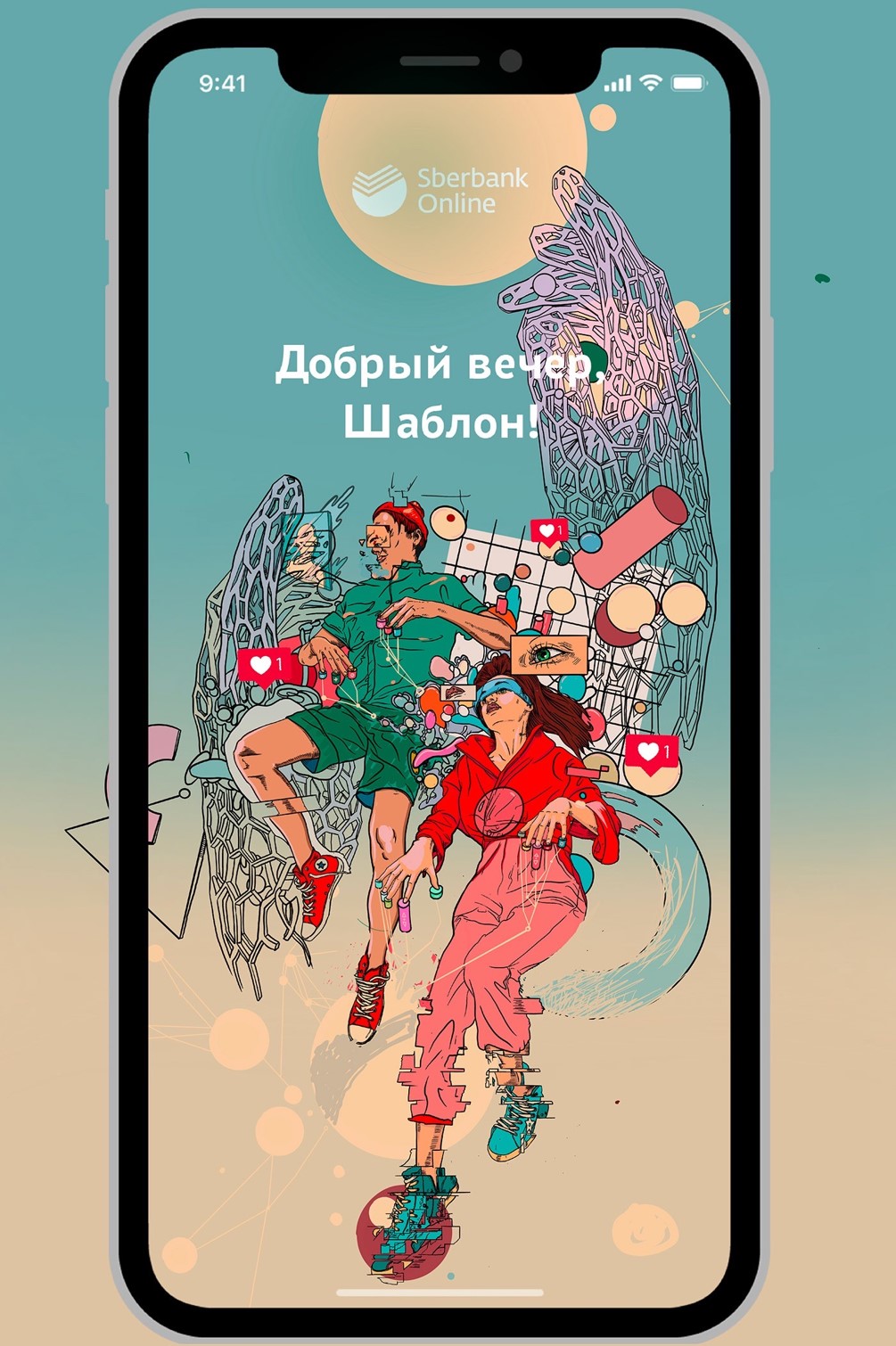

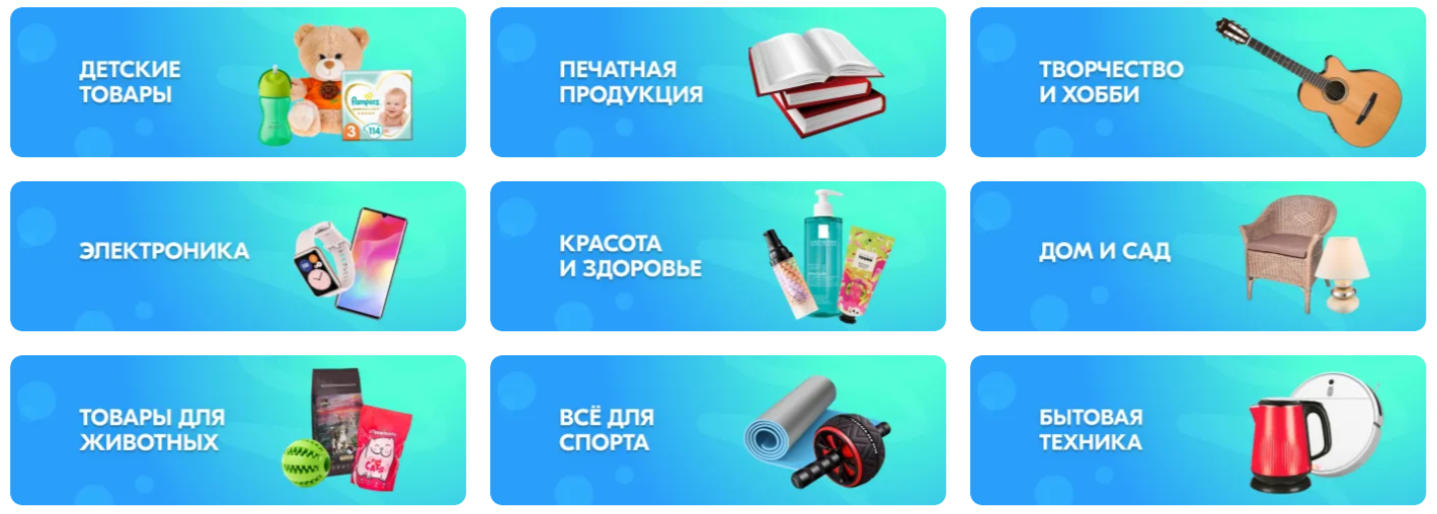





Внимание: комментарии у данной статьи отключены!
20bet28.11.2016
Apoiar ferramentas de apostas e estar equipado com uma plataforma diversificada de transações financeiras, a 20Bet oferece suporte tangível aos jogadores. Este é um lugar onde eles podem apostar com dinheiro real, respaldados por concorrentes de diversas disciplinas esportivas. 20bet
gate io28.11.2016
I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.