Рубрики:
- Интервью
- Культура

Шах, которому подвластно время
15.02.2019
Герой пятьдесят пятой встречи проекта «Люди как книги» Алим Шахмаметьев — роман. Это помимо его основного профиля. Он художественный руководитель и главный дирижёр Камерного оркестра Новосибирской филармонии и увлекательная многостраничная книга об истории и искусстве. Его «страницы» пестрят цитатами великих. Кавычками хочется объять и собственные его слова — чтобы унести со встречи домой.
— Ваше артистическое имя по ту сторону границы звучит кратко, но масштабно. Как вышло, что вы не только сократили сложную фамилию, но еще и даровали себе титул?
— Так получилось. Умные люди, с которыми свела судьба в Калифорнии 19 лет назад, убедили, что с таким количеством букв в фамилии можно делать карьеру таксиста, но не артиста. На афише, да ещё латиницей «Шахмаметьев» и правда смотрелось длинно и непонятно. Великий Ростропович отреагировал на «Alim Shakh» одним из первых: «Старичок, ну наконец-то ты понял, что твоя фамилия должна быть короче, чем у меня!» Тут уместно вспомнить историю об их с Галиной Павловной бракосочетании. Пришли они в ЗАГС, регистраторша читает документы: «Вишневская, Ростро… Ростра… Растрпт… Простите, мужчина, а вы не хотели бы взять фамилию Вишневский?».
Я сторонник старого забитого тезиса, что не имя красит человека, а человек — имя. И доказательств тому масса — тот же Ростропович или Гергиев. Я помню, еще в 90-е годы коверкали: «ГергИев… Георгиев»… А сегодня, если и найдётся человек, который не знает, как правильно произносится эта фамилия, и ошибется — на него весь мир посмотрит с укором.
Я упростил антрепренёрам задачу, а в моей-то жизни трудностей с этим не возникло: я ведь с детства Шах — так меня ещё одноклассники звали.
— Ваша дочь продолжит ваше дело?
— Я говорю ей: «Адриана, ты должна уметь играть на рояле что-то большее, чем «Василёк» одним пальцем — ты дочь музыкантов, наши фамилии позорить нельзя». Смеюсь, конечно: «Давай, сиди учи «Собачий вальс» хотя бы». Пока промахивается. Детям свойственно лениться. А что — разве мы сами не были такими? Спасибо моим покойным профессорам. Если бы не они, я бы вряд ли хоть кем-нибудь стал. Низкий поклон, прежде всего моей маме, ну а потом — моим учителям.
— А куда тянуло? Чем занимались?
— Ну что такое романтически голодные 90-е… Чем мы только ни занимались, что только в голову ни приходило. В том числе и коммерцией, конечно.
— На ваш взгляд, связь с «музыкальным богом» зависит от географической точки пребывания? В каком-то городе, может, мощнее сигнал и легче творить?
— Невозможно быть везде своим. И не стоит всем угождать — не получится ведь. «Угождающие» к нашему музыкальному делу имеют подчас весьма посредственное отношение. Мой большой друг и коллега композитор Антон Танонов как-то сказал: «Серьёзная проблема современных композиторов состоит в том, что невозможно идентифицировать их композиторскую «геолокацию».
Приходишь в концертный зал и слушаешь китайского композитора, потом монгольского, потом американского, потом российского. И по их музыке невозможно понять, кто из Китая, а кто из США. Настолько всё унифицировалось. Это следы глобализации в искусстве. Всё подвержено течениям, кругом мейнстрим. И почвенническую основу композитора подчас невозможно распознать». Вспомним Глинку, он говорил: «Сочиняет музыку народ, а мы, художники, только её аранжируем». Это, может, перегиб был в другую сторону, но всё же Глинка прав. Любой композитор, прежде всего, черпает вдохновение в своём времени и народе. И в своём национальном прошлом. Или привозит впечатления из-за границы: тот же Глинка с его «Арагонской хотой» или Римский-Корсаков с «Испанским каприччио». Или Чайковский с «Итальянским каприччио». Мы с первых тактов чувствуем «итальянские» интонации — но глазами Чайковского, чьё творчество основано на русских национальных традициях. У сегодняшних композиторов это определить сложнее, часто — невозможно. И мы в своей дирижёрской практике стараемся бороться с такой глобализацией.

Плиний Старший сказал: «Каждому своё». Господь всем даёт поровну. Нет земли, забытой Богом, я в это не верю. К этому же можно вспомнить ещё одну максиму: «Где родился — там и пригодился». Но я — не композитор. Отличие дирижёра от композитора в том, что композитор — творец музыкальной идеи, а дирижёр — лишь её проводник.
— Дирижёр вообще глубоко зависимое лицо. Он зависит от композитора и оркестра, от зала и директора, и не может существовать без всех названных и без публики.
— Все зависимые. И композиторы тоже, последние 500 лет точно. А дирижируется лучше там, где хорошие музыканты, где прекрасный во всех отношениях концертный зал. У рояля есть крышка, под крышкой дека — это его «акустическое поле», струна скрипки колеблется и передает колебания деке. А у оркестра акустическое поле — это зал, где он играет. Приезжаешь в Brucknerhaus Linz — он огромный, но звучит замечательно. В «Мариинке-3» появляешься — потрясающе звучит. И моделируется ещё, «подкрутить» для оперы или для инструментального концерта. Где зал географически затерян? — да мне всё равно: в Петербурге или в Питтсбурге.
— Место силы!
— Место силы — это другое. Я вот, например, люблю посещать старые русские монастыри. Там я обретаю силу для своего творчества, черпаю музыкальные идеи. Это то, о чём говорил Пушкин: «любовь к отеческим гробам». Обращаясь к истории, к памятникам древности, мы устанавливаем связь с предками. И музыка соединяет. Это единственное искусство, которое может нас перенести во времени. Как в аллегорической форме: играем музыку XVII века, и представляем себя жителями той эпохи, так и в буквальном смысле. Мы подходим к самому главному вопросу: чем дирижирует дирижёр.
Так вот, он дирижирует временем. Любой исполнитель апеллирует ко времени, но дирижёр это ощущает наиболее остро. И если дирижёр управляет временем грамотно — слушатель путешествует во времени вместе с ним. Вот подчас слушаем симфонию: 40 минут промелькнуло — никто и не заметил. А иногда небольшая пятиминутная пьеса звучит как сорокаминутная симфония — да ещё потом полночи в голове сидит. Ход времени преломляется. Теория относительности, так сказать.

— Управление временем — совместная заслуга дирижёра и его оркестра. У камерного оркестра до вас времена складывались драматично. Когда и как вы «спелись»?
— Исторически так сложилось, что оркестранты и дирижёры — антагонисты. Между ними в прямом и переносном смысле существует классовая вражда. В любом случае дирижёр — это некий индивид, подавляющий волю оркестрантов, диктующий свою. Меня спрашивают: «А вы можете не диктовать?» Могу — но зачем я тогда нужен? Чтобы вместе вступили? Это сегодня по силам сделать и без меня. Современный оркестр прекрасно сыграет ритмично — для этого дирижёр уже не требуется. Дирижёр нужен как раз для того, чтобы он диктовал своё видение. По мнению некоторых оркестрантов, может, неверное. Но это опять к вопросу, что всем не угодишь — и не надо.
Не всегда бывает, что дирижёр оказался во всём прав. Но даже если он неправ, но все музыканты оркестра выполнили его волю со всей страстью — музыка звучит более убедительно, чем если бы оркестранты поспорили и каждый сыграл так, как его научили или как ему «точно известно». Потому что оркестр — это собрание играющих людей, в единицу времени исполняющих идентичную задачу. Есть некая смысловая эмоциональная идея. Дирижёр не отвечает на вопросы «Кто?» и «Что?». На вопрос «Кто?» уже ответил директор филармонии, приняв на работу музыкантов. На вопрос «Что?» ответил композитор — его ноты уже на пюпитрах. В партитуре прописаны ноты, динамика, темп. Дирижёр отвечает на вопрос «Какой» и главное — «Как»! Форте — это насколько громко? Adagio — это насколько медленно? А акценты какие?! И тут такое поле для субъективизма, что без дирижёра уже не обойтись.

Теперь от общего к частному. У нашего камерного оркестра история вовсе не драматичная — но интересная судьба. Нам больше двадцати пяти лет и за это время действительно сменилось несколько дирижёров. Марк Евгеньевич Абрамов начинал с оркестром ещё в консерватории. Михаил Исаакович Турич возглавил его в филармонии, на этот период выпало становление, первые абонементы, наполнение залов, гастроли. Пришло время и музыкантам захотелось чего-то нового. И согласитесь: было бы куда хуже, если бы им никогда ничего не хотелось. Творческие люди всегда находятся в исканиях. Оркестр — не безликая субстанция, а собрание высоколатантливых творческих индивидуумов.
Но всё же оркестр обезличен, обиходно он ассоциируется с той или иной фамилией дирижёра. За всё отвечает дирижёр — его имя значится в афише. Бывает он и ни при чём — но «при нём случилось». Поэтому он будет виноват. И в какой-то момент оркестранты решили, что с Туричем им дальше не по пути. Пришел Александр Иванович Полищук. Турич — замечательный музыкант, достигший невероятных высот как скрипач. В отношении дирижирования, может, он и не был эталоном.
Хотя в прошлом сезоне — на 25-летии оркестра — мы его пригласили в программу, и я впервые услышал и увидел его работу «вживую». Его дирижирование было очень музыкально и эмоционально. Мне очень понравился тогда концерт Нино Рота. Полищук же именно дирижёр, техничный — тоже Мусинский ученик, как и Кац, и ваш покорный слуга. У него свой харизматичный творческий стиль, но и свои недостатки. Возможно, иногда его дирижёрское искусство становилось самодостаточным и не всегда отражало чаяния музыкантов. Не хочу никого критиковать — так критикуют и меня. И у нас с коллективом не всегда всё было гладко — тем не менее, среди дирижёров Камерного оркестра я — долгожитель. Возникающие противоречия мы стараемся решать.
Мы уже слишком хорошо знаем друг друга и умеем сохранять истинные ценности, дорожить ими. Но я всегда говорю: ротация дирижёров нужна, и я вряд ли буду возглавлять Филармонический камерный оркестр вечно. Пока что жизнь складывается так, что мы вместе — значит мы в той стадии, которую можно назвать «переправой». А коней на переправе не меняют.
Текст и фото: Антон Веселов
Подписаться на рассылку
status-media.com
Отправляя форму вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
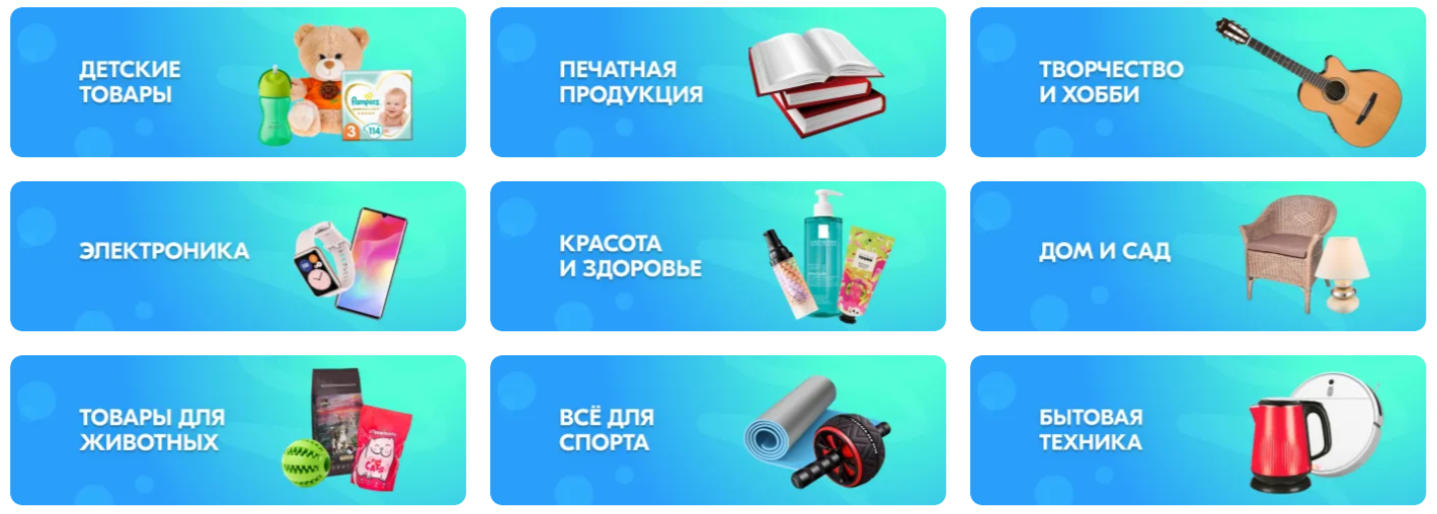





Добавить комментарий
Для того, чтобы оставить комменатрий вам необходимо зарегистрироваться!